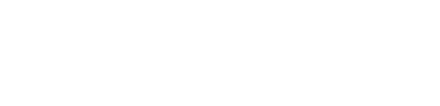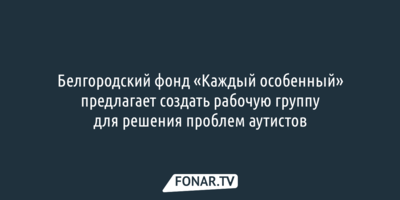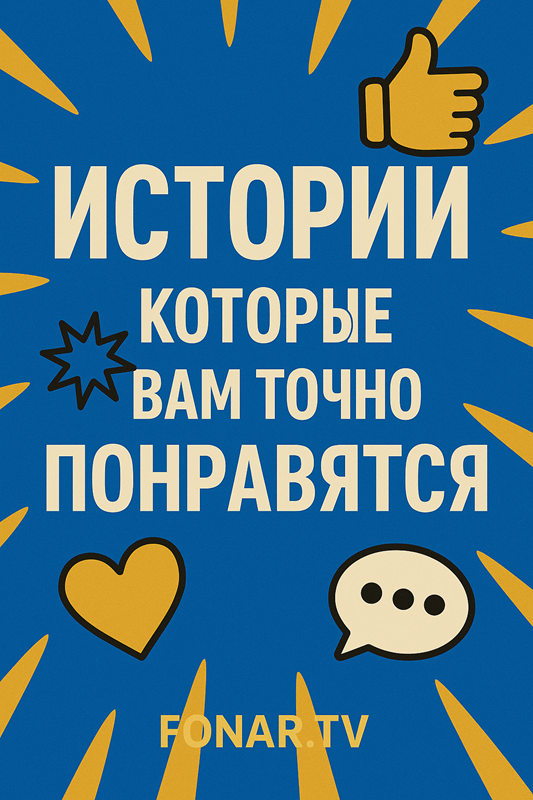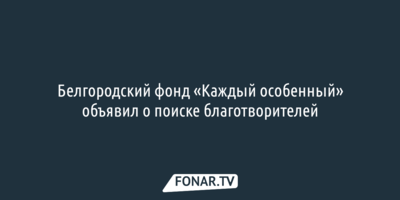— В 2014 году в нашей области не было ни одного ресурсного класса, а слово «аутизм» вызывало недоумение, недовольство, молчание. Я собирала родителей, искала школы и понимающих директоров, проводила акции. Встречалась с чиновниками, которые искренне не понимали, о чём речь, и игнорировали официальные обращения.
Первое, что нам предложили в ответ на желание учиться в обычной школе, — коррекционный класс седьмого вида.
— У него что, что-то с руками?
— С руками всё в порядке. У Макара аутизм, — отвечала я.
Это я пыталась объяснить учительнице, почему Макар в восемь лет не пишет.
— С какими детьми вы работали?
— Ну, с седьмым видом.
— Но у вас в классе дети с аутизмом, с ДЦП, с гиперактивностью. Они все разные. Что вы знаете об аутизме?
Примерно через 20 минут я поняла: мы не просто одни — мы вне языка. Нас не понимают и не хотят понимать. Реальность предлагала убогое помещение, одного учителя на весь класс, ноль тьюторов, ноль современных знаний. Через два дня я взяла Макара за руку и сказала: «Всем спасибо, до свидания».
 Наталья Злобина и Макар, фото из личного архива
Наталья Злобина и Макар, фото из личного архива
Потом я пришла в школу-интернат, где учились дети с нарушениями ОДА и слуха. Нужно было хотя бы начать — завести метод, опробовать прикладной анализ поведения. Нашёлся мудрый, смелый директор. Мы и сегодня c ним в прекрасных отношениях.
Помню, первое, что он спросил:
— Нет ли у Макара нарушений по ОДА? Тогда бы взяли без вопросов.
— У моего сына аутизм — одно из самых сложных нарушений. Неужели, чтобы он получил право учиться, ему нужно ещё придумать ДЦП, глухоту?
На такие компромиссы я не пошла. Мне важно было, чтобы появились педагоги, умеющие работать именно с аутизмом. Благодарна директору за смелость — первый ресурсный класс в Белгороде всё-таки появился.
Сегодня в регионе 74 ресурсных класса и 37 групп, службы ранней помощи, наставничество, центр полезной занятости, тренировочная квартира. Но за этими цифрами — не гранты, не благосклонность системы, а сотни часов бессонных ночей, десятки отказов, годы диалога.
Сейчас я часто слышу: «Вам повезло, в Белгородской области теперь так много ресурсных классов». Я грустно улыбаюсь: это не везение. Это работа, и вот как она выглядела в цифрах — без прикрас.
С февраля 2013-го по ноябрь 2015-го года— 65 разных активностей: писем и встреч, и 44 отказа: «не видим проблему», «нет такого закона», «нет денег».
Каждый шаг — на сопротивлении.
С декабря 2017-го по июнь 2020-го — 165 встреч с чиновниками и профильными структурами для переговоров, презентаций, стратсессий; 58 из них — впустую: люди спорили, игнорировали проблему, меняли проектную документацию на удобную системе, а не под потребности наших детей.
Это не просто цифры. Это годы жизни и внутренний ресурс, который мы — как родители, как фонд, как сообщество — вкладываем в то, чтобы слово «аутизм» перестало быть пугающим. И каждый следующий класс появлялся не потому, что «так решили наверху», а потому что кто-то не отступил после двадцатого отказа.
Исследования говорят: уровень стресса родителей детей с РАС сопоставим с тем, что переживают участники боевых действий. Ты в этом 24/7, без права на паузу, без гарантии, что будет лучше. Но я не рассказываю это, чтобы пожаловаться. Я рассказываю, чтобы вы знали: эти перемены — возможны. Потому что кто-то когда-то не отступил. Потому что чья-то история стала точкой опоры для другой семьи.
Именно поэтому в День защиты детей наш Фонд «Каждый Особенный» начал акцию #НалогНаИнаковость, чтобы не потерялась правда о том, сколько стоит простое право — быть собой.
Если вы — родитель ребёнка с особенностями и знаете, что такое жить «против течения», — пусть ваша история прозвучит. Ведь инаковость не должна быть налогом, который платят дети с особенностями и их семьи, и каждая история, рассказанная в рамках акции #НалогНаИнаковость, делает перемены видимыми и помогает идти дальше.
Фонд «Каждый Особенный»борется за права детей с аутизмом, чтобы они могли учиться и получать необходимые для жизни навыки. Поддержать работу Фонда можно здесь. Делать добрые дела — выбор людей, которые хотят созидать и строить лучшее будущее.